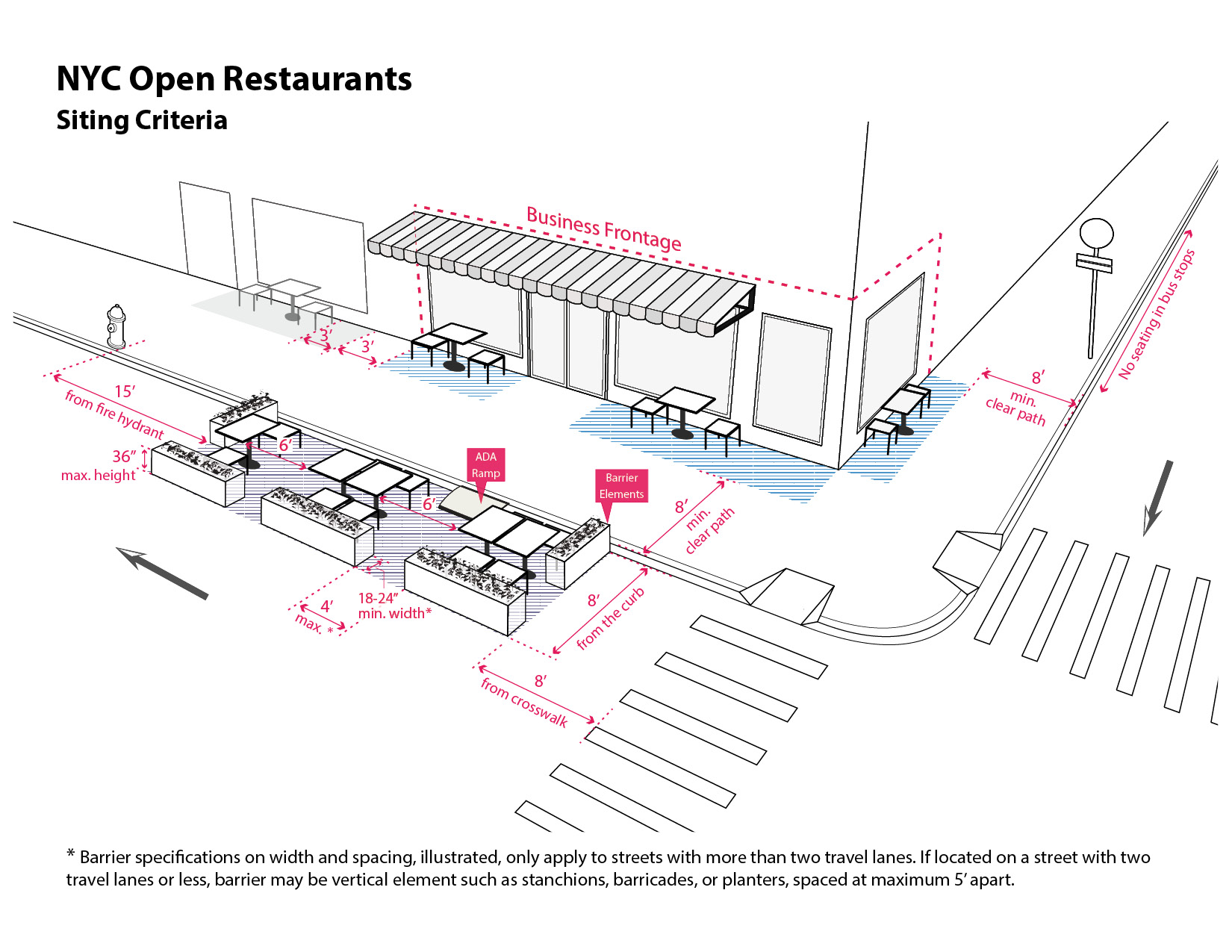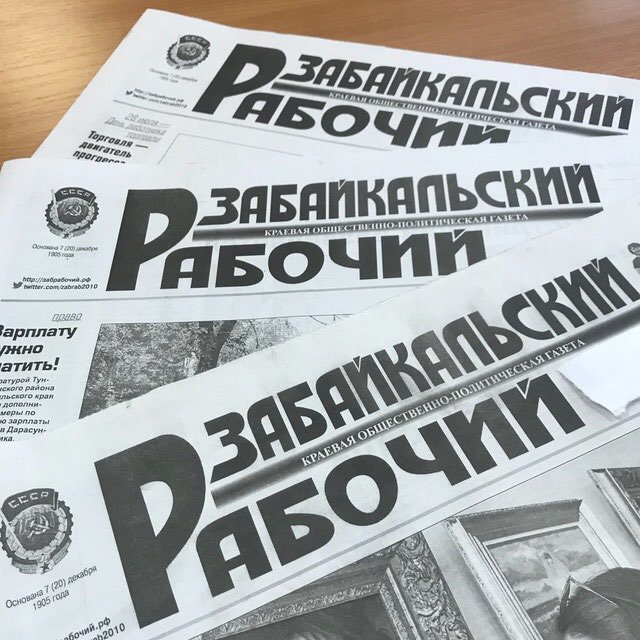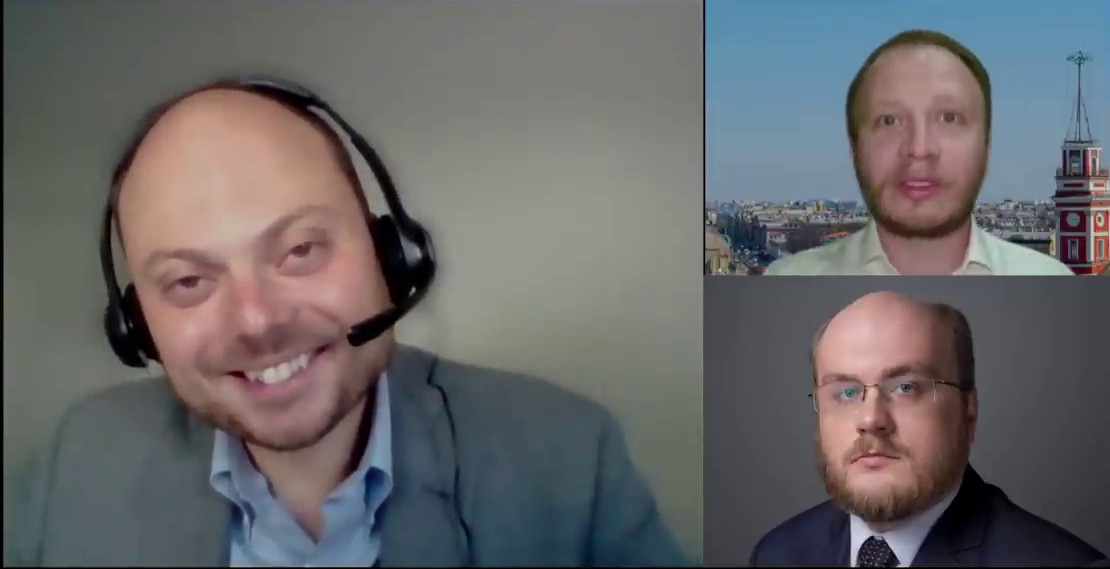Георгий Фролов
Уже прошло более полугода, как станция метро «Новокрестовская» (ныне «Зенит») превратилась в станцию-призрак. В былые годы таким загадочным титулом награждали недостроенные станции на действующих перегонах метро, например «Адмиралтейскую» или «Обводный канал».
Пропажа целой станции метро почти не замечена горожанами, и это неудивительно – станция имеет наименьший в метрополитене пассажиропоток. После окончания чемпионата мира по футболу и до начала пандемии «Новокрестовской» пользовались менее одной тысячи горожан в сутки. Содержать целую станцию для столь малого числа пассажиров, судя по всему, непозволительная роскошь для метрополитена, и так потерявшего значительную часть билетной выручки из-за коронавирусных ограничений. А потому даже в дни футбольных матчей десятки тысяч болельщиков шагают к стадиону от «Беговой» и «Крестовского острова».
Однако рано или поздно станцию, на которую были потрачены федеральные деньги, придется открыть. А значит, бремя содержания «Зенита» вновь настигнет городской бюджет. Надо ли принять этот факт стоически или возможно сделать станцию действительно полезной для города?
Шаг первый. Долой заборы!
Невостребованность в дни между матчами – это всего лишь симптом основной болезни станции. Территория намыва на стрелке Крестовского острова развивалась «с нуля», но, судя по всему, проектировщики не задумывались, кого метро будет обслуживать здесь в нефутбольное время? Пустота вокруг станции – главная проблема, которая исключает возникновение постоянного пассажиропотока.
Но проблема эта во многом искусственная. Сегодня 60% возможного буфера пешей доступности станции «Зенит» отрезано ограждениями зон безопасности прошедшего чемпионата мира. Подготовка к Евро-2020 стала поводом не разбирать многокилометровые заборы, затем коронавирус продлил их жизнь как минимум на год. Частокол заборов отрезал от станции Яхтенный мост и вместе с ним застройку Северо-Приморской части, Парк 300-летия Петербурга, ТРЦ «Питерлэнд» и офисные центры на берегу Большой Невки.
По предварительной оценке, демонтаж ограждений и появление новой пешеходной связи позволили бы привлечь на станцию около 2,5 тысячи новых пассажиров в сутки. Тех, кто откажется от поездок на личном транспорте или выберет живописный маршрут от «Зенита» вдоль Финского залива вместо променада по дворам Северо-Приморской части до «Беговой». В летние месяцы, когда закаты наиболее красивы, пассажиропоток может достигать и больших значений.
Стоит вспомнить, что Яхтенный мост конструктивно рассчитан на пропуск автотранспорта. Возникает вопрос: почему бы не подвести к «пустующей» станции хотя бы несколько автобусных маршрутов? Такое решение имеет свои минусы: в дни футбольных матчей маршруты придется сокращать, возвращая Яхтенный мост во власть болельщиков. Но в обычные же дни спрос на поездки с Яхтенной улицы, части Планерной улицы и улицы Савушкина очевиден. Особенно если прочертить выделенные полосы для общественного транспорта на Планерной, трасса которой дублируется ЗСД. Расчеты показывают, что автобусная линия может увеличить пассажиропоток станции еще на 4 тысячи человек в сутки.
Кроме пешеходов и пассажиров наземного транспорта открытие связи с Яхтенным мостом было бы актуально для пользователей средств микромобильности – велосипедов или самокатов, тем более что по Яхтенному мосту и далее по Яхтенной улице уже проложена велодорожка. Большое свободное пространство как вокруг павильонов, так и в подземном пространстве (напомню, что один из двух вестибюлей был закрыт в нефутбольные дни и до ремонта станции) позволяет разместить крытые охраняемые модули как для собственных велосипедов горожан, так и для велопроката. По расчетам, с помощью этого решения «Зенит» обретает еще 3,8 тыс. потенциальных пассажиров в сутки, а путь до центра города сокращается для них на 20 минут.
Шаг второй. Пересечь Финский залив
Всех ли потенциальных пассажиров мы учли? Ответ становится очевидным, если вспомнить панораму, открывающуюся со стрелки Крестовского острова. Вскоре вступит в строй огромный деловой комплекс «Лахта-центр». Однако как связать его со станцией метро?
В начале 2010-х годов в Петербурге уже предпринималась попытка запустить новый вид городского транспорта – водный. Будучи слабо интегрированными в общегородскую транспортную сеть, речные трамваи так и не смогли встать наравне с сухопутными собратьями. Но близость «Зенита» и «Лахта-центра» – отличный шанс воскресить неплохую идею, тем более что небоскреб обделен внеуличным транспортом. Быстроходный круглогодичный паром, подбрасывающий сотрудников «Лахта-центра» до метро, будет очень востребован, привозя на станцию еще порядка 5 тысяч человек ежедневно.
Еще одно потенциальное направление – туристический Петергоф. Вряд ли туристы откажутся от линии метеоров, непосредственно интегрированной с городской подземкой. Пространство у «Зенита» – идеальное место для новой пристани.
Шаг третий. Вдохнуть новую жизнь
В 2019 году пространство у «Новокрестовской» было благоустроено. Это очень хороший шаг, ведь станция – одно из самых доступных мест города, предоставляющее горожанам и туристам выход к морю. 15 минут от «Гостиного двора», и вы на берегу моря – многие поколения горожан и представить не могли такое чудо!
Однако на вновь обустроенной набережной практически нечем заняться. Чтобы перекусить, придется отправиться на одну из соседних станций метро… Дальнейшее развитие благоустройства стрелки Крестовского острова также способно генерировать значительный пассажиропоток. Превращение бескрайней парковки в благоустроенный парк сделает это пространство местом притяжения горожан: спрос подтверждает сезонный рост пассажиропотока станции в летние месяцы.
Решение находится как в руках города, так и в руках хозяина основного близлежащего объекта, а с недавних пор и тезки станции – футбольного клуба «Зенит». Более того, именно «Зенит» наиболее заинтересован в привлечении горожан! Безусловно, успехи команды и активная работа с болельщиками помогают окупать содержание «Газпром-арены» лучше, чем на других стадионах ЧМ-2018. Тем не менее более 300 дней в году стадион пустует. Для пространства с такой потрясающей транспортной доступностью – 15 минут до центра города! – это попросту расточительно.
За примерами далеко ходить не надо. Популярный «Севкабель Порт» густо населен офисами, торговлей, ресторанами и выставочными пространствами. Но в дни концертов пространство легко переключается на работу только с гостями. Такая модель работы может быть вполне уместна для арены, особенно учитывая схожесть локаций. Оживление «Газпром-арены» между матчами способно сгенерировать еще 4 тысячи пассажиров ежедневно.
Подведем итог
Улучшение доступности станции, появление пересадок и оживление прилегающей к ней территории способны превратить убыточную прежде «Новокрестовскую» в значимый транспортно-пересадочный узел «Зенит». Аутсайдер по пассажиропотокам оказывается вполне способным увеличить свой пассажиропоток в 20 раз, обгоняя такие станции, как «Обводный канал» или «Пушкинская». При этом улучшая жизнь тысяч людей, а также становясь драйвером городской экономики и важным примером оживления событийной инфраструктуры города.
Для петербуржцев ценно, что такое преобразование – еще один важный шаг на пути города к морю, от которого на четвертом столетии истории уже наконец пора перестать отворачиваться.